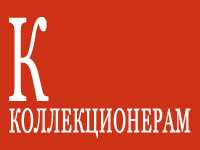«Моя дорогая водка». Документальный роман в 40 частях
Часть 1. Я впервые знакомлюсь с водкой Smirnoff
Американский алкогольный напиток Smirnoff — самый продаваемый в мире. Чемпион продаж, самый известный в мире водочный бренд. Потом уже «Столичная» и все остальные. С этой водкой я познакомился

Меня вывезли в деревню к деду. Смычка города и деревни.
Таких головных уборов, как у меня, у деревенских не было никогда.
Мы не знали, что такое туалетная бумага и на гвоздь накалывали резаные листы газеты «Правда». Еще мы не знали о существовании подгузников, прокладок, йогуртах, пластических операциях и зубной пасте «Колгейт», устраняющей кариес. Лечили зубы просто и незамысловато — удаляя их безжалостно.
Жевательную американскую резинку продавали по 5 рублей за пачку, а если одну пластиночку, то за рубль. Если уже
И вот в один лучезарный день из сказочного

Свадьба родителей. 1954 год. Ровно через 9 месяцев явлюсь белому свету я.
В СССР станет больше на одного едока.
О, это был настоящий праздник, луч солнца в нашем сером советском будничном царстве, где даже бутылки отечественного производства были похожи на унылых, траченных молью
«Гуд бай, Америка, оу,
где я не буду
Те две смирновки не были похожи на сегодняшние заурядные поллитровки, то были — произведения стекольного искусства! Если нынешние — просто песня, а то и пьяная частушка, то те были — истинная симфония, контата и фуга, Бах и Моцарт одновременно!
В них была тайна и тайна во всем. Четыре царских (!) орла, о происхождении которых никто из нас понятия не имел, мы даже не знали, что царя и его семью расстреляли большевики. Об этом молчали. Тайну несла и надпись про «поставщика императорского двора».

Мой первый автомобиль марки Победа.
Видимо, у царя тоже был свой двор, где он гонял мяч и играл в «войняшку».
Услышав это, мама едва не упала в обморок, но сдержалась, видимо, любопытство пересилило. Зато, сдержавшись, переспросила с плохо скрытой ненавистью:
— 10 долларов штука?!
— Другой не было, — вдохновился интересом мой отец. — А лоцмана надо было угостить. Неудобно же.
(Надо знать мою маму. Она никогда не выбрасывает еду. Требует доедать. Сказалось пребывание в немецком концлагере. Начальник лагеря. И так тратить деньги!)
— Лоцмана? Угостить? На мостике?
— Ну, Маш, какой на мостике! Когда на якорь встали.
— За тридцать долларов? Дешевле не было?

Мое детство. Я смахиваю на карманника, но кроме марок ничего в жизни не воровал.
— Да ты, Маш, пойми… — Отец, видимо, почувствовал не бесспорность своего положения — 10 долларов помноженных на два — это целое состояние по тем временам. — Представь! Панамский канал… Туман. Лоцман… Англичанин. Как без него, на мель сядем, нам хана. И — Смирнов, говорит, Смирнов! Только Смирнов и больше ничего знать не желаю! Не поведу, говорит, через канал без Смирнова! Я пообещал, а откуда я знал, что за Смирнов? — оправдывался отец.
— Это же… пять… пар… Обуви!
— Ну ладно, Маруся, какие пять! Пять! Знаешь, как там бедно живут? Какая там дорогая обувь! Там, вообще, обувь страшно дорогая. Ужасно дорогая. Просто невыносимо трудно ходить по магазинам. Там столько нищих, там так бедно живут, ужас!
— Дороже водки? — спросила мама зловеще.
— Что дороже? Обувь? А как же, ты что! В пять раз!
— В пять?
— Ну, в четыре.
— Значит, твой матрос Петров получил больше тебя … — в сто раз! Он — на свои доллары — жене сапоги купил, дочери и бабке — туфли!
— Да ладно, купил! Он их на помойке взял! Там все на помойках лежит. Поносил два дня, надоело, и в помойку кинул. Это ж — Запад, Маша, это не как у нас, там же это —

Мой отец стоит на заднем плане задумчивый, а дядька Витя Монахов
Я не в кадре, т.к., кажется, мне доверили съемку.
Отец — камикадзе, но как же я понимал его в тот момент! Я готов был бегать босиком по морозу, лишь бы эти две бутылки стояли на нашем столе среди салата оливье, селедки под шубой, жареных отбивных, винегрета, жареной рыбы в томате, пельменей и всего того, что выставлялось на стол, когда отец возвращался из очередного рейса. Я был готов ради них отказаться — даже! — от маминых котлет и пирогов, ну, хотя бы на день. Я все мог
Но, несмотря на сложившуюся в семье атмосферу, было уже поздно. Слухи об этих волшебных бутылках достигли самых потаенных уголков нашего городка, и первым не выдержал искушения мой дядька Витя Монахов, шофер хлебовозки, муж маминой сестры.
— Слушай, Василич, говорят, водку привез не нашу? — вкрадчиво спросил он отца, и я замер: вдруг отдаст бутылки?
— Привез, — ответил отец, как ни в чем не бывало. — Попробуешь?
— А то.

Мама, папа и я. Отец вернулся из рейса. Привез себе трусы.
Отец медленно и солидно раскрыл дверцы бара, и дядька зажмурился — вид сияющих нездешней красотой смирновок и его ослепил! Он жадно сглотнул слюну.
— А не жалко?
— Да ты чего? — беспечно ответил отец, с ловкостью фокусника отвинчивая пробку. Дядька подставил стакан. Все во мне напряглось. Забулькала прозрачная жидкость.
— …Вот это… водка! — выдохнул дядька. — Даже закусывать не хочется. Умеют же делать, бля. Как, говоришь, называется?
— Да Смирнов. Ее там все пьют.
— Как все? Сколько ж она стоит?
— И не спрашивай! Еще?
— Спрашиваешь!
Бульки, глоток.
— …Уф! Вот это да! Но какая, зараза, приятная, не то, что наша — сивуха! Пшеничная, что ли?
— Смирнов!
— Да уж, Смирнов. Необычная, да. А название русское?
— Эмигрант наш. Там живет, в США. Бывший белый офицер, Петр Смирнов. Видишь, написано —
—
— Еще?
—
— Да ладно!
—
— Да не волнуйся, у меня ее полно!
— Как полно? Откуда?

С мамой и личным мотоциклом на фоне Лиепайского института.
И тут у отца появился враг — мой дядька, которого он в следующую минуту сразит наповал, сообщив, что водка в американской бутылке — наша, рижского розлива и что он самолично переливал ее в красивую американскую посуду:
— Шутка ведь, Степаныч!
Дядька не поверил, махнул рукой.
— Брешешь!
Отец достал с самой нижней полки бара нашу, кургузую.
— Сравни!
Дядька выпил и сплюнул:
— Врешь ты! Это ж сивуха! А вот та — водка! Как ее — Смирнов?
Отец налил «американской». Дядька выпил и обозвал отца
— Так и сказал бы: жалко! Я б тебя понял, а ты — как еврей, честное слово, насочинял с три короба!
— …Да ты смотри! — горячился отец, открыто сливая советскую «три шестьдесят два» в американскую посуду. — Видишь!
Налил в свою рюмку, ахнул и… замер.
— Ты чего? — спросил дядька.
— Не понял, — ответил отец и налил в рюмку из советской бутылки. Выпил и удивленно посмотрел на дядьку: — Опять не понял! Сивуха!
Выпил из смирновской и расплылся в блаженной улыбке:
— Совсем другое дело!
Дядька мудро усмехнулся:
— Кого надуть хотел? Я ж тебе, Василич, сразу сказал: вот это, — он ткнул пальцем в американскую бутылку, — вещь! А та — говно! Даже водку мы делать не умеем, портачи!
И ни последующие в запале объяснения отца, ни я, представленный в качестве свидетеля шутки, ни демонстративное переливание из бутылки в бутылку — уже ничто не могло сбить его с толку:
— Смирнов — это вещь!

В матроске — это я, а справа брат Андрюшка, вождь краснокожих.
Эти волшебные бутылки — водка в них не переводилась никогда — хранились у нас не год и не два. Водка и не могла перевестись, потому что на дворе было
Так, волею судеб, познакомился я с американским Smirnoff. Было мне лет 13. И был это 1968 год. Огромный портрет Брежнева с протянутой рукой висел на стене соседнего здания, уже был Карибский кризис, уже убили Джона Кеннеди, и высадились на Луну американцы, а мы в отместку отправили туда свой луноход. Уже была Прага, и все жили в ожидании войны с американцами. Давно это было.
К предыдущей части | К оглавлению книги | К следующей части

Моя коллекция торговых марок — Водка Алконост

Моя коллекция торговых марок — Коньяк Готье
>
Музей подводного флота в Тушино
Виртуальная экскурсия!

Моя коллекция торговых марок — Водка Арсеничъ

Проект будущего музея «Наполеон и русские»
Виртуальная экскурсия!

Строим Народный музей Олимпиады-80!